29 июля 2017 года в Главном штабе Эрмитажа состоялись традиционные «Диалоги» Открытой Библиотеки. В этот раз дискуссия была посвящена теме «Искусство и массы», где о публичном спросе на изобразительное искусство рассуждали профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге искусствовед Илья Доронченков и директор Центра современного искусства «Гараж» Антон Белов.
Открытая библиотека опубликовала аудио- и видеоматериалы, а также расшифровку дискуссии. Фотографии взяты с сайта Открытой библиотеки.

Н. Солодников: Дорогие друзья, здравствуйте! Мы не можем периодически не делать в Эрмитаже «Диалоги», посвященные изобразительному искусству.
Поэтому мы пригласили людей, которые имеют непосредственное отношение к истории искусства разного, классического и современного. Сегодня они занимаются искусством, историей искусства, делают так, чтобы это искусство было доступно для вас в том числе. Два очень уважаемых, замечательных человека, два блестящих интеллектуала, представляющих Москву и Петербург. Это преподаватель Европейского университета Илья Доронченков и директор Центра современного искусства «Гараж» Антон Белов.
Мы сразу договорились, что они не будут меня унижать за мое дилетантство, потому что я, наверное, последний человек в этом зале, который хоть что-то понимает в искусстве. Но вопросы у меня есть.
Для обывателя, такого как я, в последнее время абсолютным потрясением является публичный спрос на изобразительное искусство, который сформировался и в Петербурге, и в Москве. Но если к бесконечным очередям, которые тянутся от Зимнего дворца к арке Главного штаба, мы привыкли — это постоянный пейзаж нашего города, то московские истории, когда мы видим километровые очереди, стоящие в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей — это удивляет, это обсуждается.
Что это такое, на ваш взгляд? Новый уровень выставок, которые сегодня предлагают главные музеи страны? Или новый уровень интереса самой публики к изобразительному искусству, который вызван какими-то другими причинами?
А. Белов: Спасибо за представление и спасибо, что пригласили. Всегда очень трудно быть в самом главном музее нашей страны, еще и в присутствии директора, и разговаривать об искусстве. Поэтому я сразу с себя снимаю должность интеллектуала из Москвы и просто скажу, что я директор небольшого музейчика.
Вопрос ваш очень сложный. Я, кстати, задавал его Зельфире Трегуловой (прим. Открытых диалогов — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи) и Ирине Александровне Антоновой (прим. Открытых диалогов — президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Каждая из них высказывает свои теории. Ирина Александровна Антонова считает, что очереди — это очень классно. Я с ней в этом плане спорю катастрофически: я считаю, что если у тебя очереди, значит, ты хреновый менеджер и не умеешь организовать так, чтобы люди в очереди не стояли.
С Третьяковкой другая история, мне кажется, из-за того, что музей помыли, причесали и сделали чуть-чуть интереснее: стали делать лучше выставки, лучше их рекламировать, появился какой-то артикулируемый жест — это всё наложилось на запрос на русскость, народность и самостийность. Это всё в сумме дало эффект Серова и Айвазовского.
Н. Солодников: И итальянцев.
А. Белов: Ну, с итальянцами всё хуже, на самом деле.
Н. Солодников: Сложнее.
А. Белов: Ну, Серебряковой — да. Но, например, когда они привозили Моранди и какие-то другие выставки, уже такого эффекта не было.
Мне кажется, это всё работает в очень специфическом формате. А второе, что, мне кажется, случилось с Москвой, — она пережила кризис потребления в своем роде. Она переела устриц и стейков и решила, что новая фаза — это потребление культуры.
Н. Солодников: Подождите, но стейков и устриц переели, может быть, жители внутри Бульварного кольца или Садового?
А. Белов: Нет-нет-нет, вообще, в принципе.
Н. Солодников: В Люблино нет устриц.
А. Белов: Поверьте мне, есть. Вы просто давно, видать, не были в Москве. У нас в каждом, даже захолустном, районе теперь есть своя бургерная, своя устричная, свое кафе с фалафелем и хумусом. Это очень удивительный феномен.
А теперь все хотят культуры. Культура стала трендом. <...>
Каждая уважающая себя девушка, у которой больше тысячи подписчиков, обязательно должна чекиниться раз в месяц в музее. Это тренд, который должен быть. У нас в «Гараже» самый фотографибельный — холл перед туалетом, потому что там зеркала и цветные лампы. И это прямо героический фотоснимок для большинства людей.
И, конечно, нужно принять, что современная культура и искусство проникают в сферу музеев. То есть все музеи принимают то, что их коллекции — это материал, который становится мертвым без использования. Они пытаются это оживить. И это дает просто героические инъекции в музей. Я о том, что какой-нибудь москвич в Пушкинском музее бывал 15, 30 раз. Он уже не считывает искусство, замыливаются детали. А появление новых деталей оживляет и всю коллекцию вокруг.
Я, например, в восторге был сейчас от Кифера здесь, в Эрмитаже. Я не мог себе представить, что в этом зале можно построить такие гигантские стены, и Кифер будет звучать в каком-то фантастическом резонансе с тобой. И у меня была идеальная возможность посмотреть это практически в одиночестве — это, действительно, большое переживание.
И мне кажется, то же самое сейчас все музеи используют, и это активно работает. Многие музеи начинают прикладывать усилия, чтобы стать более интересными. Я не знаю, как в Питере, но в Москве это активно чувствуется. И люди начинают в них ходить. Для нас это тоже является отчасти неожиданностью, потому что мы не ожидали такого эффекта.
Ну и последнее, и мне кажется, «Гараж» тут сыграл не последнюю роль. Люди из Министерства, которые не вызывают у большинства из нас симпатий, не могут считать глубинные коды, но они считывают такие коды, например, как Wi-Fi, кафе, книжный магазин и улыбающиеся люди. И считывая эти коды, они эти коды передают администрациям музеев — мол, вот это то, что нужно. Но мне кажется, эти коды заставляют и администрации считывать более глубинные коды, потому что, как правило, люди там работают или назначаются куда более глубокие. В этом тоже есть определенный эффект.
И. Доронченков: Я думаю, что нам пока недостаточно информации и опыта для того, чтобы поставить диагноз этому явлению, которое, на мой взгляд, конечно, отрадно. Жалко стекло в дверях Третьяковской галереи, но это хороший хайп получился.
Я бы острожно сказал вот что. Во-первых, такой шум поднимается около определенных выставок. Мегавыставка большого художника, которого мы знаем с детства, из учебников. «Девочка с персиками».
А. Белов: С обложки, да.
И. Доронченков: Да, с обложки «Родной речи». Это Серов и Айвазовский. А к Верещагину у меня уже вопросы, потому что я не очень понимаю: петербургская выставка Верещагина стала вот такой бомбой или нет? Я думаю, что нет. А могла. Почему? Это отдельный вопрос. Верещагин ведь — абсолютная бомба. Я слышал, что Третьяковка вроде должна делать выставку. Будем надеяться, что они что-то сделают свое. Верещагин настолько горячий художник, что Русский музей выставил его максимально осторожно, чтобы не вызвать никакого шума. Вы все понимаете, почему он горячий — потому что Восток никуда не ушел.
Антон сказал про Россию, которую мы потеряли. Другими словами, но об этом. Про общество потребления тоже Антон сказал. Мне кажется, что здесь могут быть вот какие аспекты. Лет 30 на западе длится музейный бум. Воспитаны поколения людей от lower middle class до upper middle class, не говоря уже о денежных мешках, которые должны ходить в музей, должны давать деньги музею. И это часть культуры уже не потребления, это не консюмеризм, это нечто, встроенное в мозги.
Чекиниться в «Гараже» около туалета в зеркалах? Прошлым летом я видел новый музей Уитни в Нью-Йорке, Музей современного искусства. Такого количества девушек на лабутенах я не видел никогда в жизни, что в Уитни, что в МоМЕ. Что говорит о том, что воспитан некий стандарт материалистически-интеллектуального потребления.
Вопрос у меня: мы уже доехали? Эти очереди — первая ласточка или случайность? Я пока ответа на этот вопрос не имею.
Я бы еще расслоил эту проблему. Серов и Айвазовский, Серебрякова и Ватикан — это абсолютная классика, внутри которой музей может поступить, скажем так, тактично в соответствии с моментом, выкинув как Третьяковская галерея с выставки Серова всё, что касалось революции 1905 года. Или как Русский музей, максимально микшировав жестокость туркестанской войны, представленной Верещагиным. Но это детали.
Второе — это современное. Это контемпорари и классика современного искусства, потому что они ставят другую проблему. Ян Фабр — это что было? Мне интересно, что Антон скажет. Почему это породило такой скандал? И что этот скандал нам говорит о состоянии современного общества?
Мы все знаем, что в XIX веке в России по независящим от нас обстоятельствам единственной областью, где существовала возможность интеллектуального диалога, была русская литература. Общество канализировало туда свои устремления. Очень может быть, что духовная культура — в том числе изобразительное искусство — это тот канал, куда идет наша потребность в интеллектуальном диалоге, в плюралистическом мышлении. Потому что ничто как искусство и современное, и классическое не демонстрирует нам принципиальность плюрализма мнений, взглядов и вкусов. Если история искусства что-то может в человеке воспитать, то я бы предпочел, чтобы она воспитывала представления о принципиальной плюралистичности жизни.

Н. Солодников: Антон, надо отвечать. Ян Фабр — что это такое было, на ваш взгляд? И что скажете про реакцию, которая была вызвана этой выставкой?
А. Белов: Тут накладывается очень много аспектов.
Ни для кого из нас не секрет, Эрмитаж — главный музей страны, и он будет главным очень-очень долго, если не случится что-то другое.
Фабр — это был очень смелый проект. Он погрузился в мир современного искусства с затрагиванием наиболее острых тем. И если в Европе эти темы во многом пережиты: тема смерти, насилия, экологии — они уже обществом как-то отрефлексированы, то в нашем обществе они затабуированы.
Для большинства Фабр стал покушением на классические устои. Тут гобелены, мрамор, позолота — и вдруг современное искусство внесли в классические залы.
И сумма этих факторов очень сильно повлияла на часть общества. Я даже не понял, что это были за претензии, потому что я вообще физик, ученый, я не смог логически осмыслить, что они говорят, потому что я не видел логики в их претензиях. Произошел всплеск непонятно чего. Музею, наверное, было тяжело. Но в плане продвижения того, что это живая институция, которая работает со сложным материалом и интересна не просто людям, которые пришли раз в жизни на экскурсию и второй раз через 15 лет со своими детьми или гостями Северной столицы, а что это какая-то живая материя — по-моему, это была лучшая рекламная кампания музея.
Вы себе не представляете, в Москве обсуждали все.
И. Доронченков: Завидуете.
А. Белов: Завидую отчасти. Я был просто в восторге. Фабра каждый день обсуждали. А что? А как? Музей держится? А что там происходит? А что еще новое выпустили? То есть какой-то шел ежедневный поток новостей.
Обычно как? Пришли на открытие, скучно, специалисты что-то там написали, пообсуждали, какая-то публичная программка — и к концу открытия выставки всё затихло.
И. Доронченков: Кифер, например, да? Никто не волнуется. Какая живопись! Ах, какая живопись!
А. Белов: Да. А с Фабром шел поток информации. И мне кажется, это важно.
Это настоящий подвиг, что в старые залы внесли новое искусство, отчего, старые залы заиграли. Представьте — Эрмитаж. И висят первые художники мира всех времен и народов и их первого уровня произведения. Просто шедевры. Ты идешь — и есть залы шедевров. Но помимо этого тут же есть куча залов, которые важны для какой-то школы и для человека, который интересуется искусством, но не важны с точки зрения обычного потребителя, которому подавай черепашек-ниндзя. То есть такой человек, который, когда черепашек-ниндзя нет, зал пробегает мимо. А рядом еще бежит экскурсовод, который его подгоняет. А тут, с Фабром, эти залы заиграли. Я во многих залах впервые остановился и начал разглядывать, с чем происходит взаимодействие. Мне кажется, это очень важный аспект.
И. Доронченков: Я Антону объясню, что происходит. Потому что моя область профессиональных занятий, не преподавания, а науки — это восприятие современного зарубежного искусства в России с 1890-х по 1930-е годы, то есть от импрессионизма до сюрреализма, то, как наши соотечественники на это реагировали.
Я записал для «Арзамаса», 7 лекций на эту тему, но я сейчас скажу. То, что произошло с Яном Фабром, происходило с выставками Сергея Дягилева, «Золотого Руна» и некоторых других. Илья Ефимович Репин последними словами поливал Эдгара Дега и Анри Матисса.
При всей разнице импрессионистов, Пикассо и Фабра (я скорее с импрессионистами и Пикассо) модель работает одна и та же. Мы имеем страну с консервативной визуальной традицией, с консервативной художественной традицией. И мы имеем новый художественный язык, который внедряется туда. Он воспринимается, как правило, как посторонний, инонациональный, угрожающий духовным основам. А духовные основы контролирует культурный истеблишмент, который тогда был Илья Ефимович Репин, Владимир Стасов или будущий отец черносотенцев Владимир Грингмут. Они в равной степени все ненавидели современное искусство. Ну а современный культурный истеблишмент я не буду перечислять, а то кто-нибудь обидится, что его туда не включили.
Н. Солодников: Начнем с того, что в этом культурном истеблишменте личностей масштаба перечисленных вами Репина, Стасова и так далее, мне кажется, нет. По крайней мере, с той, консервативной, стороны.
И. Доронченков: Это не вопрос личности, это вопрос моделей. Модель действует та же самая. На Фабре подорвались, потому что Эрмитаж — это святыня. И кроме того, конечно, Фабр поиграл на нервах у впечатлительной части населения.
Те, кто учился, как я, в советском вузе, помнят из истории партии, что годы между 1907-м и 1914-м назывались «Эпохой реакции». Когда ты себе это объясняешь, очень многое становится на свои места, в частности, по поводу культурных феноменов и тех битв, которые сейчас всё чаще и чаще разгораются на поле культуры. Еще 5 лет назад этого не было. А теперь, вот, Серебренников, дай бог здоровья, и так далее.
Н. Солодников: Этот маятник может качнутся вправо, качнувшись влево, и как угодно. Государство сегодня артикулирует следующую позицию: у нас огромная страна, у нас очень разное общество и общество имеет право на разные реакции, в том числе и на ту реакцию, которую вызвала выставка Фабра, я имею в виду негодующую общественность.
Когда в Москве переживали и спрашивали друг друга: «Что там? Музей держится?», мы здесь были свидетелями того, каково приходилось Эрмитажу в эти дни, когда каждый день сотни, если не тысячи писем, на которые нужно реагировать, которые вызывают прокурорские проверки, еще какие-то проверки. Это стоит просто невозвращаемого здоровья людей, которые здесь работают, а уж количество нервных клеток подсчитать невозможно.
Может ли этот маятник качнуться в ту сторону, когда музеям придется совсем тяжело и количество людей, представляющих возмущенную общественность, превысит какую-то критическую массу? И право ли государство, когда оно занимает вот такую позицию — что реакция может быть и такой, и такой, и публично музеи не защищает? Скрыто — может быть, но я этого не знаю как обыватель.
А. Белов: Вы меня ставите в неудобную позицию. Я оптимист. Мне кажется, не всё так страшно, как вы описываете.
Н. Солодников: Я же не описываю, я спрашиваю. Моделирую будущее.
А. Белов: Мне кажется, у нас не всё так плохо, как могло бы быть или как существует в других странах. Мне трудно описывать. Я понимаю, что у нас не идеальная система политического режима и всего остального. Но, поверьте мне, система искусства в США, например, куда жестче, чем у нас. Директор музея здесь — это человек, который свободен принимать решения. В США ты не можешь принять решение, какую делать выставку.
Н. Солодников: Михаил Борисович Пиотровский смеется сейчас.
А. Белов: Это правда. Директор Эрмитажа — такая власть, что многие политики могут позавидовать.
Ну, правда, американский музей — он не может. У него есть попечительский совет, который определяет за него. План развития он не может составить — это попечительский совет решает. Метрополитен-музей — сняли директора. Его сняли не за какой-то скандал. Потом, естественно, приписали, что он там чего-то тра-ла-ла с каким-то руководителем отдела. Но сняли просто потому, что попсовет — сильная структура, которая всё определяет.
Если человек собирает какого-то вида произведения, он говорит: «Через три года я хочу, чтобы выставка этого искусства была». Ему дальше уже не важно. И здесь, мне кажется, система немножко другая. В России музейные, культурные институции обладают достаточно мощной силой независимости и влияния. Кирилл Серебренников отчасти пострадал за то, что он, как лицо, ставшее очень влиятельным и приближенным к власти, перестал реагировать на их запросы, на которые он влиял до этого.
Н. Солодников: Жалко, Кирилл Семенович ушел. Он бы вам, наверное, ответил.
А. Белов: Я уверен, что он мне бы ответил. Он всегда мне отвечает.
Давайте признаемся честно. Когда вы играете в игры с властью, власть на вас начинает реагировать постоянно, когда вы хорошо играете и плохо. Мы в «Гараже», например, делали выставку «100 лет перформанса». Подходят научники, говорят: «Мы же не можем обойтись без Pussy Riot, Павленского, группы «Война»? Я говорю: «Не можем. Это будет нечестно по отношению к истории перформанса. Потому что это уже часть истории. Мы не можем их вычеркнуть никак». Они говорят: «Ну и что делать будем»? Я говорю: «Ну, давайте ставить». Говорят: «А вдруг придут казаки»? Я говорю: «Да не придут. Просто давайте не ставить в рекламные модули». Они говорят: «Ну, они же зашлют кого-то, посмотрят». Я говорю: «Ну, посмотрят. Но по сравнению с тем, что мы покажем, что творилось в начале 20-х, когда сжигали театры и вообще выкидывали актеров старой школы на улицу, у нас ничего страшного нету. Ну, прибил он себе там чего-то...»
И в контексте другого это настолько было не замечено! Выставка шла четыре месяца, ни одного конфликта, ничего не было.
Я понимаю, про что вы говорите, — что мы все находимся в зоне риска. Но любой бизнесмен в России, который заходит на территорию с малого, среднего бизнеса на выше среднего бизнеса — его риски здесь гораздо выше, чем культурной институции, потому что интересантов на его бизнес становится в разы больше.
Да, возможно, нам чуть-чуть непросто в некоторые моменты искать компромисс, чтобы всем слоям общества угодить. Но поверьте мне, если вы посмотрите историю выставок Европы, США или Азии, какие там происходят конфликты. Когда показывали Стёрджеса, только, это вызвало просто протесты на улицах. Или когда Мэпплторпа пытались показывать, его запрещали, хотя, человек уже был при смерти.
Мы проходим тот же путь. Вот, я езжу сейчас регулярно просто по России, сейчас из Казахстана вернулся. Поверьте мне, все хотят сотрудничать, все хотят современное искусство, все готовы обсуждать. Да, возможно, есть какой-то внутренний ценз — что можно показывать, что нет, и он расширяется. И это очень отрадно. Я вижу большое за этим будущее.
Наверное, я даже не буду эту ужасную вещь говорить, но на нашей стороне время. Умирает поколение партийных людей, которые до сих пор считают, что они своей росписью могут что-то запретить, и рождается то поколение, которое уже прожило без вот этой вот подписи. Эти люди видят, что может быть по-другому. И это, я считаю, очень большой залог того, что будущее может быть хорошим.

И. Доронченков: Работать в России и не быть оптимистом невозможно, поэтому, работая в Европейском университете — и тут мы с Михаилом Борисовичем посмеемся вместе — тем более нельзя быть кем-то кроме оптимиста.
Я оттолкнусь от того, что Антон сказал, что будущее принадлежит нам. Сейчас встанем и споем. Будущее принадлежит нам, конечно, но тут я бы начал издалека.
У нас на носу столетие события, с которым страна не понимает, что делать. В 2017 году столетие 1917 года. Что случилось в 1917-м? В 1917 году — извините, это дилетантское мышление — в результате глобального взрыва архаическая Россия съела модернизационную Россию. Какое-то время революция имела модернизационный заряд, но он довольно быстро кончился, к 1929 году точно. И это мы очень хорошо видим по искусству — мгновенно.
В сущности мы пережили то, что Иран пережил при приходе аятолл. Когда ты выбрасываешь большевистскую риторику, которая футуристична, и смотришь на модели, ты понимаешь, что победила архаика. К сожалению, та современная часть русской нации очень быстро модернизировалась. Там длинный список открытий: инженерных, научных, технических, художественных. А архаическая часть, живущая в замкнутом агрикультурном цикле... Иосиф Виссарионович выстроил идеальную модель Александра Третьего. Есть он, есть землепашцы, больше никого. И еще бюрократия, которую время от времени счищают.
Ситуация, на мой взгляд, не сильно поменялась. Огромная часть нашего народа, действительно, архаична. Это беда, но не вина этих людей. Архаика прорывается очень часто. В фундаментализме, который мы сейчас хлебаем большой ложкой, но не настолько большой, как вы говорили. Музеи переживут эти атаки, если общий климат будет как минимум такой, как сейчас. Но мы должны понимать, что, как Владимир Ильич Ленин учил нас, в каждой нации есть две нации. Только он говорил о нациях эксплуатируемых и эксплуататоров. А у нас есть ориентированная на будущее и архаическая. Повторяю, это не оценочное суждение «кто-то плохой, а кто-то хороший». Но для того, чтобы разбираться с тем, что с нами происходит, в том числе в искусстве, нужно отдавать себе в этом отчет.
Поэтому «Гаражу» респект и уважуха. С большим уважением отношусь к миссии «Гаража» и подобных институций, потому что они занимаются тем, что я для себя обозначаю названием перформанса бессмертного Йозефа Бойса «Как объяснять картины мертвому зайцу». И пока успешно, на мой взгляд. Потому что процент людей, особенно молодых, которые начинают говорить на этом языке растет. Лично мне лучше с живописью, чем с акционизмом. Это то, где пока что будущее.
Александр Николаевич Бенуа, глядя на картины Пикассо у Сергея Ивановича Щукина, говорил, что это путь живописи, не хотите, не нравится — потащат.
Н. Солодников: У меня есть следующий блок вопросов, который немножечко уведет нас в сторону от Москвы и Петербурга, и обратит наше внимание на российские регионы.
Во мне нескончаемый восторг вызывает история, проделанная Александром Николаевичем Сокуровым и его студентами из Кабардино-Балкарии. Беспрецедентная на сегодняшний день вещь для такого дорогого института, как кинематограф. Сейчас, когда закрыты все региональные киностудии, нет федеративного кинематографа, кино производится в первую очередь тусовкой Москвы, какое-то небольшое количество фильмов рождается в Петербурге.
Относительно изобразительного искусства. Вы сказали, что в Москве люди уже наелись гамбургеров, устриц и теперь на очереди искусство, к которому они идут. Люди в регионах зачастую еще даже к устрицам не приступали, они их в глаза еще не видели. Существует ли, на ваш взгляд, этот разрыв? Считаете ли вы, что это плохо или это естественно для такой большой и такой разной страны? И когда все-таки начнется процесс децентрализации культуры? Нужен ли он вообще стране?
А. Белов: Вы такие вопросы задаете, по которым люди докторские защищают и потом монографии выпускают.
Н. Солодников: Ну, у нас все «Диалоги» каждый раз как последний.
И. Доронченков: Уже можно петь «Крейсер «Варяг»?
А. Белов: Эта тема гораздо многограннее. Россия не однородна. Россия не является страной, у которой у каждого региона есть одинаковые задачи, цели и возможности. Это всё очень разнородное.
Большинство регионов недолюблены Москвой на физическом и психологическом уровне. Это проявляется даже в психосоматике, когда на тебя бросаются люди и говорят: «Не бросай нас!» через два дня твоего пребывания в каком-то регионе. Ты пытаешься за два дня передать все свои знания: как сделать НКО, как организовать, как поддержать художников. Подайте на грант, вот Гете-Институт, давайте мы от «Гаража» поможем и книжки в библиотеку пришлем. И через два дня люди бегут за тобой практически к трапу и хватают за ноги: «Не уезжай!»
И ты понимаешь, насколько им не хватает простого человеческого внимания — когда кто-то с ними делится знаниями. Я считаю, в этом большая вина Москвы как федерального центра, который до сих пор работает в ручном управлении и не является центром создания механизмов передачи знаний, экспертиз и раздачи ресурсов по принципу, кто интересней и важнее.
Личная моя проблема в другом — я не являюсь искусствоведом, я менеджер. Я социальный инфраструктурщик. Моя задача — всё время создавать инфраструктуру. То есть я создавал изначально «Артгит». Потом, когда мы создавали «Гараж», я сделал образовательный отдел и все-все другие. У меня в какой-то момент случился психоз, что я приезжаю в регион и я не понимаю, о чем с людьми говорить, потому что оказывается, они не читали эти книги, оказывается, эти книги только на английском существуют, они не видели это и то. У меня случился психоз, и мы начали переводить книжки. Вы, наверное, видели издательскую программу «Гаража» — это же ковровая бомбардировка. Мы издаем те книги, которые я сам почти не читаю, потому что половину я не понимаю, а половина очень специфическая. Но эта ковровая бомбардировка — в прошлом году мы издали 101 книгу — позволяет нам закрывать лакуну. Мы суммарно уже продали и распространили 500 тысяч книг и наполнили 30 региональных библиотек. Это все, чтобы мы могли с регионами и людьми разговаривать на том же уровне, а в будущем — и на международном уровне разговаривать тем же языком, чтобы в будущем еще люди начали писать этим языком и создавать что-то новое. То есть мы пытаемся заложить фундамент будущего.
И это важный вопрос, который федеральный центр не выполняет. Это, возможно, претензия и к Эрмитажу такая же: мы должны брать на себя ответственность за то, что регионы голодают.
И что мне еще кажется очень важным — я не люблю проекты, которые создают филиалы больших центровых музеев в регионах, но я очень уважаю, когда появляются региональные центры, которые поддерживаются большими институциями. Для нас это является большим приоритетом — поддержка региональных начинаний.
Когда мы проводили Триеннале... Кто из вас слышал про Триеннале российского современного искусства? Шесть кураторов полтора года ездили по России, по таким сложным регионам, например, как Чечня, или по таким малопроизводящим искусство как какие-нибудь северные районы. И это показало, что искусство есть, оно развивается. Оно интересное и, самое главное, как бы мы снобски к этому ни относились, но всё, что питает культурную жизнь Москвы, Питера, Екатеринбурга и всего прочего — это, как правило, люди от земли и сохи.
Я общался с покойным Каравайчуком, которого очень любили здесь в Эрмитаже тоже. Я всё время перед этим оратором немел, потому что он производил за секунду кучу смыслов. Он говорил: «Почему сейчас больших композиторов нету? Потому что пастухов нету». Я говорю: «Господи, каких пастухов?» Он говорит: «Раньше что? Шли в горы. Альпы. Пастухи на дудочке играют, пастух с другой горы на дудочке ответил, девушки запели. Спустился с горы. Ну, там, понятно, у коров колокольчики. Спустились, а в деревне уже кто-то еще на чем-то играет. И это меняло сознание. Всё от земли питалось».
Надо признать честно: большинство художников — это люди, приехавшие из какой-то самой глубинки. Екатеринбургский синдром производит безумное количество художников. Люди из региона: из Перми, Усть-Каменска, еще каких-то городов приезжают в Екатеринбург и начинают заниматься стрит-артом, освоением заводов.
Поэтому мне кажется, говорить про регионы нужно, во-первых, очень уважительно, во-вторых, иногда ставя выше, чем нас, людей, которые претендуют вы — на культурную столицу, мы — на самую богатую столицу.
Очень важно в этом диалоге принять, что пока регионы делают гораздо больше для нас, чем мы для них. Я говорю про Владивосток, где уже три культурных институции в области современного искусства. Екатеринбург, чья Биеннале принципиально лучше всех биеннале и триеннале, которые делаются в России. Пермь, где существует Курентзис со своей потрясающей оперой и Мирошниченко с балетом, который может соперничать с московским и санкт-петербургским. И про многие города так можно сказать.
Поэтому я ушел бы от нашей центричности и величия. Да, мы великие, конечно — не надо себя, конечно, принижать — но мы должны, как ответственные за эту страну, нести эту ответственность в гораздо большем объеме.
И. Доронченков: Антон, говорите! Так приятно слушать московскую самокритику, просто сил нет.
С одной стороны, мне, как человеку, выросшему из русской классической литературы, хочется согласиться с руссоистским пафосом коллеги о том, что человек от сохи всегда... С другой стороны, как человек, родившийся в Великих Луках по стечению обстоятельств, я могу быть объективным в этом смысле.
Но шутки в сторону. Вопрос о самостоятельности русских городов и земель — хочется отвечать на него по-марксистки. Когда будет финансовая, налоговая самостоятельность и федерализация — тогда всё будет, как надо.
С другой стороны, глядя на текущий момент, мне кажется, что роль культуры в этой абсолютно необходимой нашей стране многоцентричности, роль культуры сейчас... Культура принимает на себя очень важную строительную роль, и тут я, простите, Михаил Борисович, уж скажу про филиалы Эрмитажа, которые помимо Европы существуют в большом количестве российских городов. Я понимаю, что у Антона своя точка зрения: мегамузей, который империалистически захватывает провинцию — наверное, так тоже можно сказать. Но мне представляется, что это колоссальная роль. Я не знаю, сознательно или интуитивно взятая на себя, но она, действительно, существует.
Я бы не стал полагаться на федеральный центр, потому что свободу не дают — ее берут. И Владивосток и Екатеринбург ее берут, конечно. С финансовой помощью, очевидно, где-то Министерства культуры, где-то частных доноров. Я скорее здесь буду как Капитан Очевидность говорить. А Антон на той самой земле и стоит двумя ногами, и ему виднее.
Понятно, что мы не сохранимся, если мы не станем многоцентричны, в том числе в культурном отношении.
Н. Солодников: Есть у меня еще один вопрос, на докторскую. Я прошу прощения за то, что всё время скачу с места на место и не углубляюсь дальше вот в эти большие вопросы, но неизвестно, когда мы еще в этой компании соберемся и сможем услышать мнение и Антона, и Ильи по самому широкому спектру вопросов, которые по-настоящему волнуют.
Вы коснулись своей издательской программы, которую Гараж делает вместе с издательством Ad Marginem. Потрясающие книжки почти во всех независимых и сетевых книжных магазинах Москвы и Петербурга, в больших региональных городах. Они стоят не так дорого. Но, в основном, авторы, которые там представлены — это европейские или американские философы, искусствоведы, это переводная литература, которая создавалась когда-то или создавалась в последнее время. Но мы практически не видим российских искусствоведов — их там совсем чуть-чуть. И об этом мой вопрос.
На каком уровне сегодня находится современное российское искусствоведение? Не секрет, что по-прежнему сегодня преподают и изучают, и любят блестящую советскую школу и досоветскую школу русских искусствоведов, и их имена известны, а книжки зачитаны-перечитаны. А что сегодня с российской школой происходит? Есть ли повод для гордости? Есть ли, кого издавать? Есть ли, кого читать?
И. Доронченков: Это трудный вопрос, потому что, назвав кого-то, я кого-то, естественно, забуду и огорчу. Поэтому мне нужно очень четко фильтровать сказанное. Но спасибо за этот вопрос, потому что вы, в частности, напомнили мне то, что я забыл сказать, отвечая после Антона. Потому что, с одной стороны, я большой энтузиаст переводов. Мое стоит на серии «Художник и знаток».
Н. Солодников: Я просто напомню, это серия, которая выходила в издательстве «Азбука». Там издавались классические работы европейских, русских искусствоведов. Потрясающая серия. Библиографическая редкость сегодня, кстати говоря.
И. Доронченков: Спасибо. К сожалению.
Сейчас полетит кирпич в сторону Антона, но я думаю, вы поймете, что это необходимый кирпич.
Переводы — это крайне важная для любой культуры вещь. Что нация переводит, то она потом и потребляет, и производит. Это дико интересный, не на одну докторскую вопрос, почему в России уже в начале XX века мы имели пять книжек Вёльфлина и ни одной книжки Алоиза Ригля и ничего из Аби Варбурга. Но мы сейчас не об этом говорим.
Я очень благодарен «Гаражу» и некоторым другим издательствам, которые продолжают переводы. И у меня тот же вопрос, что у Николая. С одной стороны, да, это круто, потому что мы получаем работы Дагласа Кримпа, мы получаем весь набор October, representations и так далее.
Но как человек, занимавшийся похожей ситуацией в начале XXI века, когда переводы тоже были очень актуальным носителем смыслов и моделей, мне хочется сказать, что дискурс-то, ребята, у нас должен быть какой-то свой. Русские футуристы породили собственный дискурс, и русские модернисты — Дягилев и Бенуа — тоже.
Вопрос вот в чем. October — это леворадикальный интеллектуальный журнал американской постструктуралистской и феминистской интеллигенции, must read для продвинутых людей, читающих по-английски в искусствознании. Сейчас он идет в любом списке студенческих работ, не говоря уже о преподавательских силлабусах.
Но вы же лучше меня знаете, насколько наша ситуация в стране плохо бьется с тем дискурсом, который породил October. Наложите эти модели, эти смыслы, эти клише, эти термины на нашу реальность, социальную и интеллектуальную, мы получим разговор слепого с глухим.
Я полагаю, что проблема русского искусствознания — это методологический вакуум, который вы, коллега, пытаетесь преодолеть с помощью ваших публикаций. Этот вакуум длится очень давно.
Европейский университет гордится тем, что он читает проблемные курсы. Мы даем курсы по истории искусствознания, по истории методологи. Но мы пока сами не порождаем методологии. Это вопрос серьезный — откуда они берутся. Очевидно, приходят извне, потому что и постструктуралистский поворот, и лингвистический поворот, и феминистское искусствознание, и социальная история искусства, которая мне ближе всего, порождены социальными, интеллектуальными сдвигами, более широкими, чем профессиональная проблема искусствознания. Как Аби Варбург писал: «Шизофрения современной цивилизации — это не про картинки».
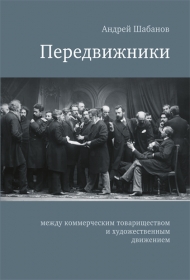 Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Я могу сказать, что мне кажется интересным. Но это будет реклама нашего университета. На мой взгляд, одна из первых попыток вернуться к тому, что наша страна породила усилиями молодых марксистов в 20-е годы, прежде всего Алексея Федорова-Давыдова с его книгой «Русское искусство промышленного капитализма», — это недавно вышедшая у нас в университете книга Андрея Шабанова о передвижниках и об их экономической и маркетинговой стратегии, которая рассказывает нам, что, как говорил Станислав Ежи Лец, в действительности всё оказалось не так, как на самом деле, и там, где мы видели народнический гуманизм, была еще очень жесткая экономическая прагматика.
Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Я могу сказать, что мне кажется интересным. Но это будет реклама нашего университета. На мой взгляд, одна из первых попыток вернуться к тому, что наша страна породила усилиями молодых марксистов в 20-е годы, прежде всего Алексея Федорова-Давыдова с его книгой «Русское искусство промышленного капитализма», — это недавно вышедшая у нас в университете книга Андрея Шабанова о передвижниках и об их экономической и маркетинговой стратегии, которая рассказывает нам, что, как говорил Станислав Ежи Лец, в действительности всё оказалось не так, как на самом деле, и там, где мы видели народнический гуманизм, была еще очень жесткая экономическая прагматика.
Эта книга вызвала очень нервную реакцию нашего искусствоведческого истеблишмента, транслируемую через рецензии. Эта вещь переносит на нашу почву то, что мне представляется очень продуктивным, — социальную историю искусств.

А. Белов: Мне очень трудно. Я не рефлексирующий человек, поэтому я даже не понимаю, что критикуют, что не критикуют. Я просто делаю то, что считаю нужным. Трудно реагировать на чью-то реакцию как на хорошую, так и на плохую. Я не понимаю, это искренне или нет.
У меня есть знакомые, они всё время смеются: «Господи, какие вы смешные. У вас есть на 100 рублей и продаете за рубль. У меня на 3 рубля, а я вам уже за 100 рублей продал». И я его абсолютно понимаю. У нас есть всё, чтобы производить этот продукт, но мы не умеем а) — упаковывать и б) — продавать. И это основная проблема.
Российских — очень мало. Мизиано, Гройс — и то условно российские, это международные звезды.
У меня была такая амбиция: мы издаем книжки уже столько лет, наверное, кто-то вырос, и мы объявили программу ГАРАЖ.txt. У меня вообще проблема — мне каждые 3 месяца надо запускать новую программу, иначе мне скучно. Мне кажется, когда у всех закончатся деньги: у патронов, попечителей, а мне станет скучно, тогда меня уволят, потому что я уже начну разрывать институцию изнутри. Итак, мы придумали программу ГАРАЖ.txt, которая была бы для людей, пишущих на русском языке по искусству, культурологии, антропологии. И мы думали, сейчас повалятся заявки, книжки, синопсисы, готовые главы.
Нет, ничего такого не случилось. Зато мы были счастливы — у нас было три гранта, и мы нашли очень хорошие книги. Правда, один человек у нас оказался, по-моему, из Великобритании, девочка из Украины и, по-моему, кто-то один был из России, но и то, кажется, не из Москвы.
И это тоже очень показательный момент. То есть мы очень грамотно поступили, что не дали русским делать, а просто — на русском языке, что нас спасло от некоторого формата. Русскоязычная культура куда больше, чем мы думаем. Этот человек может сидеть в Оксфорде и писать потрясающие книги, просто его нужно тоже втягивать в поле этой орбиты.
А говорить про этот вопрос глобально и серьезно очень сложно, потому что система образования практически разрушена. То, что выходит из МГУ, РГГУ, не считая Российской Академии художеств, это за гранью добра и зла. То, что происходит с их обучением, системой и уровнем дискуссии — это ужас. Я — человек без искусствоведческого образования. Но мне в какой-то момент становится страшно, что эти люди пять лет или я не знаю сколько изучали это. Пять лет человек жизни потратил ни на что. Бессмысленно, его надо опять заново учить. Это страшно. Мне кажется, единственный выход — это выстраивать заново систему обучения на базе кафедр каких-то вузов, совместно с музеями, с международными экспертными организациями. Я другой альтернативы не вижу.
Мы сейчас залезаем в эти области потихонечку своими щупальцами, у нас собран специальный отдел, который это всё тестирует с несколькими вузами. И я надеюсь, что года через полтора мы сможем что-то выдать, какую-то систему репродуцирования.
Ну и поверьте мне, это страдание для Эрмитажа и для любого музея. У меня в офисе сейчас 140 человек, суммарно в музее 285. Эти кадры — это просто выращенные руками люди, поштучно. И это невозможно так продолжать.
У нас фонд V-A-C есть, который строит сейчас ГЭС-2 гигантскую. Третьяковка будет реконструироваться. Эрмитаж постоянно что-то открывает. Это всё институции, которые со временем будут требовать новых людей с новыми знаниями и подходами. А этих людей нет и они не вырастают, их нужно готовить. Тут одними книжками не обойдешься.
Мы постоянно придумываем систему взращивания. Но эта система, ее должно быть больше и много. И это скорее вопрос к нам самим: что мы можем сделать, чтобы эта система воспроизводилась? У меня нет претензий ни к государству, ни к чему. Наши родители пережили 90-е. Я вообще им благодарен, что они вместо покупки новой машины отправляли меня на курсы английского или вывозили куда-то за границу, чтобы я увидел, что, оказывается, есть другой мир. И здесь вопрос к нашему поколению: что оно может дать следующему, чтобы из него воспитать тех, кто будет наравне с миром общаться и в чем-то их превосходить? Вот наша задача.
Н. Солодников: Спасибо вам огромное. Для меня это был очень интересный и важный разговор.
