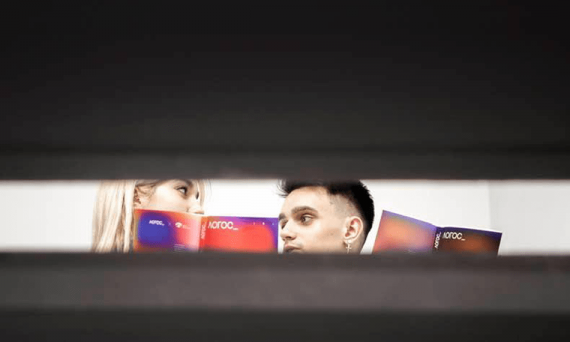Фуко осмыслил историю механизмов власти как историю реакций на эпидемии: раннесредневековая лепра производила механизмы исключения, чума — дисциплинарный контроль, а оспа — соответствовала появлению индустрии безопасности. О том, какую систему власти порождает реакция на COVID-19 и можно ли преодолеть ее, двигаясь невидимыми крысиными норами, в онлайн-журнале «Нож» размышляет философ Оксана Тимофеева:
Фуко
Весной 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения официально объявила о начале пандемии COVID-19 и правительства национальных государств приступили к разработке новых правил общественного регулирования, философы вспомнили Фуко. Созданные им инструменты анализа феномена массовых заболеваний с точки зрения генеалогии различных дискурсов и стратегий власти были опробованы рядом современных авторов, которые модифицировали и использовали их для развития собственных концепций. В частности, в серии провокативных размышлений — от резкого осуждения как власти (за слишком жесткие ограничения прав и свобод людей), так и граждан (заслишком легкое принятие этих ограничений) — Джорджо Агамбен пришел к формулировке новой концепции медицины как религии, Поль Пресьядо, вдохновившись Фуко, предложил не менее радикальные выводы о природе техно-патриархального и фармакопорнографического режимов, а Панайотис Сотирис выступил с новой позитивной программой демократической биополитики. Нельзя сказать, что идеи Фуко когда-либо теряли актуальность, но пандемический кризис сделал их особенно востребованными.
Исследуя места сочленений между властью и телами — тюрьмы, больницы, школы, зверинцы и т. д., — Фуко пишет политическую историю болезней. В книгах «История безумия», «Надзирать и наказывать», «Рождение клиники», «История сексуальности» и других своих важнейших текстах он анализирует разнообразные дискурсивные практики, благодаря которым исторически формируется наш опыт инфекций, патологий, психических заболеваний или половых извращений, и устанавливает формы преемственности этих практик. По тому, какие решения принимаются в отношении тех или иных болезней, грозящих дестабилизацией общества, можно судить о соответствующем режиме экономии власти.
Если обратиться к истории эпидемий, то, например, в лекционном курсе «Безопасность, территория, население» (1978) Фуко четко выделяет три таких режима: закон (суверенитет), дисциплина и безопасность — и соотносит их с тремя характерными болезнями — лепрой, чумой и оспой. У каждого из указанных режимов имеется свой основной механизм решения проблемы эпидемии.
Клиническую картину суверенитета дает исключение прокаженных; дисциплинарное общество вводит карантин, как в случае эпидемии чумы; более современный режим безопасности предполагает такие сложные практики, как вакцинация, которая стала применяться с XVIII века в борьбе с оспой.
Фуко располагает эти режимы в хронологическом порядке, чтобы показать, какой путь проходит власть в усовершенствовании своих отправлений, однако отмечает, что они не столько сменяют друг друга, сколько эволюционируют один в другой, так что каждый последующий режим сохраняет в себе предыдущие:
...безопасность развертывается как движение, в рамках которого к собственным механизмам предохранения добавляются и тут же приводятся в действие старые базовые структуры закона и дисциплины.
В более ранних работах — сначала «Истории безумия» (1961), а затем «Надзирать и наказывать» (1975) — Фуко подробнее останавливается на различии между первыми двумя режимами — суверенным исключением и дисциплинарным контролем, а также на переходе от одного к другому. Я тоже задержусь на этом различии, которое сохраняется внутри третьего режима — безопасности, отдающего предпочтение введению и поддержанию профилактических мер.
Итак, первую из стратегий власти Фуко определяет как исключение. Книга «История безумия» начинается с упоминания лепрозориев, которые в конце Средневековья пустеют и приходят в упадок в связи с повсеместным избавлением от проказы. Фуко сразу оговаривается, что это запустение продлится недолго, и вскоре бывшие колонии для прокаженных заполнятся новыми изгоями — бедняками, бродягами, умалишенными, — однако при этом не утратят изначальный ореол проклятия, который как раз и возникает как эффект социального исключения: общество избавляется от проблематичных элементов.
Проказа отступает, и с ее уходом отпадает надобность в тех местах изоляции и том комплексе ритуалов, с помощью которых ее не столько старались одолеть, сколько удерживали на некоей сакральной дистанции, как объект своего рода поклонения навыворот. Но есть нечто, что переживет саму проказу и сохранится в неизменности даже в те времена, когда лепрозории будут пустовать уже не первый год, — это система значений и образов, связанных с персоной прокаженного; это смысл его исключения из социальной группы и та роль, которую играет в восприятии этой группы его навязчивая, пугающая фигура, отторгнутая от всех и непременно очерченная сакральным кругом
До появления лепрозориев — «проклятых» поселений, в Средние века находившихся в ведении церкви, — исключение принимало еще более грубые формы. Прокаженных объявляли нечистыми и выдворяли прочь, обязывая носить специальные одеяния, трещотки или колокольчики, по которым их всегда могли распознать, а иногда и вовсе убивали, чтобы избавить город от потенциального источника заражения.
Вторая анализируемая Фуко стратегия отличается от первой тем, что никто уже не изгоняется за пределы общества, но само оно тщательно сегментируется и реорганизуется в целях поддержания внутренней дисциплины и осуществления непрерывного надзора за всеми его членами. В книге «Надзирать и наказывать» Фуко, опираясь на французские военные архивы XVII века, описывает комплекс карантинных мер, принимаемых в случае угрозы эпидемии чумы: закрытие города, уничтожение бродячих животных, четкое разделение на кварталы, запрет для жителей на выход из дома под страхом смерти.
Не доверяя «литературному вымыслу», благодаря которому чума как социальный феномен ассоциируется в культуре со всеобщей трансгрессией, «приостановкой законов, снятием запретов, безумством, смешением тел без различия, сбрасыванием масок» и прочим, Фуко изображает чумной город как «разбитое на квадраты, неподвижное, застывшее пространство», где «каждый индивид закреплен на своем месте».
Семьи должны оставаться дома и ежедневно в назначенный час появляться в окнах своих домов в полном составе. Таким образом проверяющие сразу могут удостовериться, что никто не скрывает умерших или больных: «Каждый заперт в своей клетке, каждый — у своего окна, откликается на свое имя и показывается, когда этого требуют, — великий смотр живых и мертвых». Особое внимание уделяется поочередной дезинфекции помещений:
Всех обитателей заставляют выйти. В каждой комнате поднима-ют или подвешивают «мебель и утварь», комнату поливают ароматической жидкостью и, тщательно законопатив окна и двери и залив замочные скважины воском, поджигают ее. Пока она горит, дом остается запертым.
В городе царит необыкновенный порядок. Четкое сегментирование противоположно исключению, предоставлявшему зараженных «собственной судьбе в массе, которую бесполезно дифференцировать».
Противопоставление двух моделей власти концептуально оформляется следующим образом:
Если верно, что проказа породила ритуалы исключения... то чума породила дисциплинарные схемы. Она вызывает не крупное бинарное разделение между двумя группами людей, а множественные подразделения, индивидуализирующие распределения, глубинную структуру надзора и контроля, интенсификацию и разветвление власти. <...> Прокаженный — и его отделение; чума — и вместе с ней подразделения.
Фуко подчеркивает, что за изгнанием прокаженного и домашним арестом больного чумой стоят разные политические мечты: «Первая — мечта о чистой общине, вторая — о дисциплинированном обществе».
Однако представленные схемы не являются взаимоисключающими. Дальнейшее развитие механизмов управления обнаруживает новые оптимальные формы их сближения. В частности, по мысли Фуко, в XIX веке дисциплинарные техники начинают применяться «к пространству исключения, символический обитатель которого — прокаженный (а реальное население — нищие, бродяги, умалишенные, нарушители порядка)». Так лепрозорий превращается в психиатрическую больницу. Дисциплинарная власть вторгается в ранее недифференцируемое пространство исключения и проводит тотальный переучет его жителей, не лишая их при этом статуса отверженных:
Обращаться с «прокаженными» как с «чумными», переносить детальную сегментацию дисциплины на расплывчатое пространство заключения... индивидуализировать исключенного, но при этом использовать процедуры индивидуализации для «клеймения» исключения, — вот что постоянно осуществлялось дисциплинарной властью с начала XIX века в психиатрической лечебнице, тюрьме, исправительном доме, заведении для несовершеннолетних правонарушителей и, до некоторой степени, в больнице.
Если же говорить о современном обществе, то оно не нуждается в таких жестких дисциплинарных мерах: интериоризировав основные властные механизмы, человек теперь муштрует сам себя (эту тенденцию превращения дисциплины в самодисциплину и внешнего принуждения в моральный долг обозначил еще Ницше в «Генеалогии морали»).
Продолжение статьи читайте на сайте журнала «Нож»
Фото: Источник
Центр практической философии «Стасис» благодарит за поддержку Группу «Волга-Днепр».